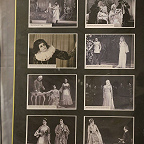Репертуар белорусского Большого богат русскими названиями. В театре идут оперы Римского-Корсакова и Бородина, Минкова и Баневича, балеты Прокофьева, Стравинского, Щедрина, Гаврилина, Асафьева и других авторов, чье творчество – общее наследие двух стран. Одно из лидирующих имен – Чайковский: в афише значатся три оперы («Евгений Онегин, «Пиковая дама» и «Иоланта») и три балета композитора, к концу сезона ожидается пополнение – впервые появится «Орлеанская дева» (в постановке Георгия Исаакяна). Особое место в этой оперной палитре занимает «Пиковая дама».
Спектакль был поставлен болгарским режиссером Пламеном Карталовым в 2014 году, но идет нечасто, поскольку на роль Германа в белорусской труппе есть только один исполнитель – тенор Сергей Франковский, солист уважаемый и прославленный, но в силу возраста (ему уже за 60) выходящий на сцену редко (последний раз своего Германа Франковский спел аж в феврале 2020-го). Молодой белорусский лирико-драматический тенор Дмитрий Шабетя пока за кровавую партию русского репертуара не берется. В сложившейся ситуации «Пиковая» фактически держится на гастролерах из России. В первую очередь это Михаил Пирогов, но также Михаил Губский, Михаил Векуа и Руслан Юдин.
Нынешний показ «спасал» Иван Гынгазов. Партия Германа в репертуаре певца уже не первый год – он исполняет ее в родном «Геликоне» (и даже снялся в фильме-опере по спектаклю Дмитрия Бертмана), пел премьеру «Пиковой» в Нижнем Новгороде. Явно перенапряженный график артиста (Гынгазов сверхвостребован и в России, и за рубежом) не позволил ему в дебютном выступлении на минской сцене выдать свой максимум: нижний регистр звучал глуховато, переокругленные гласные зачастую сливались в плохо различимый текст, хитовая ария «Что наша жизнь» была спета в транспорте. Впрочем, мощь и красота голоса, стабильные и яркие верхние ноты искупали многое – безусловно, звучание Гынгазова соответствует задачам затратной партии: добавить бы к этому свежести собственно звука, не утомленного гастрольным гоном, цены бы такому Герману не было бы. Но в минском явлении гынгазовского Германа был и немаловажный, весьма отрадный аспект: убедительная, захватывающая актерская игра. Возможно, на нее артист и делал ставку, словно желая додать публике эмоций, компенсировать некоторую недополученность чисто вокальных впечатлений. Своего героя он представил человеком жестким и почти с самого начала обуреваемым душевным недугом: мрачный, нервический, экзальтированный, явно не в себе персонаж был сыгран блестяще.
Именитому гастролеру театр подобрал в целом сильный состав. Графиню спела Оксана Якушевич: не слишком выровненный голос солистки с проблемной серединой для более вокально затратных партий был бы, наверное, не к месту, но для отжившей свое метрессы – в самый раз, тем более что пение отличала тонкая нюансировка и чуткая эмоциональность, а актерски Якушевич сделала свою Графиню властной, высокомерной, резкой, несгибаемой, словом, интересной.
В партии Лизы выступила многолетняя примадонна минской сцены Анастасия Москвина – певица, которую хорошо помнят в России по ее выступлениям в московском Большом и на концертных площадках. Холодноватое по тембру, мастерски сделанное сопрано, ровное по всему диапазону, достаточно звучное, могущее насытить образ драматизмом, было великолепно в одном из самых романтических образов русской оперной литературы. Пожалуй, лишь крайние верха сегодня не отличаются прежней свободой, к ним певице нужно готовиться заранее (например, в ариозо второй картины после слов «…в его глазах огонь палящей…» она рвет фразу, сокращая последнюю перед высокой нотой длительность, берет фундаментальное дыхание, и только после этого на высокой ноте выдает завершающее «страсти!»), и держать долгие ферматы на них, чего всегда так ждет публика (например, в полном безумия объяснении с Германом в 6-й картине), она не считает нужным. Что касается актерского образа, то гармоничной вышла лишь сцена у Канавки, где романтический флер и драматическая патетика полностью взяли свое. Во всех прежних картинах Лиза Москвиной оказалась несколько чересчур суетливой, перебарщивающей с движением, а во 2-й картине и вовсе непонятно возбужденно-веселой, словно вдруг вспоминающей о том, что она вообще-то находится под чарами палящего взора Германа лишь тогда, когда Полина ее прямо спрашивает: «Лиз, что ты скучная такая?». Но, возможно, это режиссерская трактовка, а не сомнительные новации артистки.
Второстепенные, но весьма важные партии были исполнены качественно и интересно. Яркой Полиной предстала еще одна прима белорусского Большого, международная звезда Оксана Волкова: для артистки такого масштаба роль явно проходная и незначительная, но певица делает из нее образ вовсе не второстепенный, а очень запоминающийся как своим отточенным вокалом, так и естественной сценической игрой. Прекрасно и ее преображение в 3-й картине в стройного Миловзора – голос звучит по-контральтовому насыщенно, придавая звуку маскулинные черты, при этом певица идеально интонирует, не теряя грациозности и изящества, памятуя о моцартовских истоках интермедии. Маститый Владимир Громов показал бравого красавца-гусара в образе Томского не только сценически, но и вокально – его плотный баритон покорял силой звука и благородством звуковедения. Молодой солист Андрей Логвинов придал своему красивому баритону оттенки меланхолии и широкой лирики, что было очень уместно в мечтательной партии Елецкого, однако в финальной картине в звуке появилась уместная жесткость, решительность, если не жажда мести.
Музыкальное благополучие в целом обеспечил главный дирижер театра Артем Макаров, под чьим управлением партитура прозвучала с мистическим размахом, тревожно и страстно, но при этом очень точно и аккуратно: профессиональная форма оркестра театра вызывает уважение, если не восхищение, а трактовка маэстро пленяет продуманностью и эмоциональностью. Не так интересно в этот раз показался хор Нины Ломанович. Высококлассный коллектив, гордость белорусского Большого, в «Пиковой» он был явно не в ударе: в сцене бала у женских голосов было чрезмерно много визгливых звуков на верхах, а многочисленные сцены, что по велению режиссера хор поет из-за кулис, грешили тусклостью и невнятностью (возможно, постановщик в этом и виноват). Жидко прозвучал детский хор, в отличие от взрослого выведенный на авансцену: детей явно мало для звонкого пения, которое требуется в задорной жанровой зарисовке 1-й картины.
Спектакль Пламена Карталова оставил смешанные чувства. Этот режиссер памятен Москве по гастролям Софийской народной оперы в 2018-м, когда болгары привозили на Историческую сцену Большого «Кольцо нибелунга», приятно удивившее тогда: болгарский маэстро порадовал ярко-фантазийным решением обязывающего цикла (в Минске видели в 2012-м только его третью часть – «Зигфрида»). В отличие от тетралогии Вагнера, с мистическим триллером Чайковского Карталов не справился.
На первый взгляд, решение весьма традиционное, если сильно не вглядываться, то общий абрис спектакля может показаться даже классическим. На сцене (художник-постановщик Александр Костюченко) с полдюжины вращающихся золотисто-зеленоватых зеркальных ширм-планшетов, зеркальная поверхность и на заднике, и на лестнице-подиуме у его основания – вся эта множественность отражений и преломлений света (работа Ирины Вторниковой) свидетельствует об изменчивости, зыбкости, неверности той реальности, в которой оказываются герои «Пиковой». Такая находка сценографа, безусловно, уместна. Но одновременно с этим идеи режиссера и художника по костюмам Нины Гурло частенько оставляют в недоумении.
Какой век в их «Пиковой»? Судя по выходу в сцене бала Екатерины Второй при полном параде (платье с кринолином, белый пудреный парик, алая орденская лента через плечо), действие соответствует либретто Модеста Чайковского. Если же посмотреть на прочую публику, на костюмы военных и гражданских, то это явно 1830-е – то есть все так, как задумано у Пушкина. Причем цветовая гамма удивляет своей смелостью – один оранжевый мундир на Томском чего стоит! Костюм же Германа вообще необъясним – герой приходит в современной черной тройке, словно солист, исполняющий его партию, случайно зашел на спектакль после только что состоявшегося концерта в Минской филармонии. Но апофеозом безвкусицы выглядят костюмы хора и миманса в сцене бала – одетая во все золотое (платья, сюртуки, цилиндры и пр.) массовка напоминает какой-то восточный ритуал: возможно, идея состояла в подчеркивании статуса, богатства петербургского высшего света, но на поверку получился жуткий китч.
Экстравагантные идеи Карталова вызывают бесконечные вопросы и недоумения. О не в меру веселой Лизе уже было сказано. Стоит еще упомянуть странную мизансцену в дуэте, когда за крохотным спинетом сидит Лиза, а вокализирует стоя Полина: казалось бы, какая разница, кто из героинь сидит, а кто поет? Ан нет! Аккомпанирующий персонаж по определению второстепенен, на роль героини вдруг неожиданно выдвигается Лизина подруга, что не соответствует ни драматургическому, ни музыкальному замыслу. Забавен и сам спинет как таковой: когда во вступлении к своему романсу Полина «разворачивает» на нем шикарный пассаж, когнитивный диссонанс получается полным – ведь из оркестровой ямы при этом несутся сочные, полнозвучные раскаты концертного рояля.
Под стать внучке и бабушка: не Герман ей, а она ему угрожает револьвером в спальне, ловко выхватив оружие из складок ночной сорочки, – позднейшие объяснения героя, что он «…только вынул пистолет, и старая колдунья вдруг упала», выглядят после этого по меньшей мере странно: весь зал видел, как он тряс старуху, чуть не задушив ее. Любопытно, что немощная «осьмидесятилетняя карга» блуждала по собственному дворцу во всеоружии: видимо, словно атаманша, и спать ложилась вооруженной до зубов.
Таких моментов, из которых очевидно, что ни повести Пушкина, ни оперы Чайковского постановщик не чувствует, хоть отбавляй. Но при этом он осмеливается ставить большую русскую оперу, насыщая ее своими странными «находками». Думается, что спектакль Карталова – не лучший образец оперной режиссуры, к тому же уже живущий на минской сцене более десяти лет – свое «отыграл»: театру пора подумать о новой, более интересной и гармоничной версии шедевра.
Показ предваряло мемориальное вступление: спектакль был посвящен памяти народной артистки БССР Ирины Шикуновой, некогда блиставшей в партии Лизы. Увы, лишь некоторые фото артистки украсили видеоряд, сопровождавший вступительный комментарий конферансье, а так хотелось бы услышать запись голоса знаменитой певицы!.. Сохранились ли такие записи в архивах театра, радио или телевидения, остается только гадать.
Поделиться: