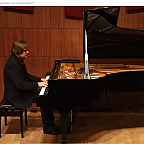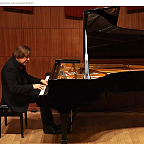Hommage папаше Гайдну
Александр Рудин и Musica Viva в рамках своего многолетнего гайдновского проекта в ММДМ исполнили Двадцатую и Двадцать первую симфонии, а затем и мессу «Сотворение мира», соединив в одной программе относительно ранний и поздний периоды творчества первого венского классика. Попутно отмечу, что ими уже (начиная с 2019 года) исполнено больше половины симфоний и почти столько же месс. Таким образом, имеется достаточно шансов завершить сей грандиозный труд к 2032 году – 300-летию Гайдна, – да еще и первыми в России зафиксировать его в записи (до сих пор терпения и сил записать все симфонии хватило, кажется, только трем дирижерам – Анталу Дорати, Дэннису Расселу Дэвису и Адаму Фишеру, а все мессы – одному лишь Ричарду Хикоксу).
Обе симфонии прозвучали практически идеально, стильно и с драйвом, лишний раз подтвердив, что на этом поле рудинцы легко могут конкурировать с лучшими мировыми коллективами, специализирующимися на музыке классицизма.
По поводу мессы возникал изначально один вопрос. Видя в афише Госхор им. Свешникова, с нынешнего сезона возглавляемый Екатериной Антоненко, я решительно не мог понять, почему задействовали именно его: ведь, казалось бы, ее же Intrada куда как больше подходит для подобных проектов, тем более что и исполнялось все в Камерном зале. Ответ был получен буквально в первый же момент: едва зазвучала музыка, стало очевидно, что Рудин трактует эту мессу как крупномасштабное полотно, тяготеющее к оратории или даже к опере, и ему здесь нужна звуковая мощь. Изысканно-утонченная Intrada не слишком отвечала бы такому подходу, а вот свешниковцы, проделавшие за эти полгода колоссальный путь в плане освоения различных стилистик, обогащения звуковой палитры, наконец, просто качественного роста, оказались как раз оптимальным вариантом. Впечатление в итоге осталось очень сильное. На высоте материала и поставленных задач оказались не только оркестр и хор, но в целом также и солисты. Лидировала среди них Лилия Гайсина, мастерица по такого рода репертуару. Имена остальных мне ничего не говорили, но, заглянув в биографии, я с удивлением обнаружил, что все трое – солисты свешниковского хора. Особенно странным это обстоятельство показалось в отношении тенора Ивана Бабкина, обладающего, казалось бы, совсем нехоровым голосом, не потерявшимся бы и на оперных сценах. У меццо Дианы Михайловой и баса Василия Упорова вокальные данные поскромнее, но для мессы их вполне хватало, и партии свои оба исполнили вполне достойно.
Сарказмы и экстазы
Еще одним значительным музыкальным событием стал концерт РНМСО под управлением Дмитрия Юровского в КЗЧ. В первом отделении звучала Симфония-концерт для виолончели с оркестром Прокофьева (солировал Александр Рамм), во втором – Вторая симфония Скрябина.
Один из труднейших прокофьевских опусов Рамм исполняет чаще, чем кто-либо другой, и делает это поистине блистательно. Он не просто понимает, но буквально кожей чувствует, какие мысли и эмоции вложил композитор в свое сочинение, словно бы вместе с ним погружаясь в эпоху конца 40-х, страдая, рефлексируя и гневаясь. Все это не только звучало в игре солиста, но даже, казалось, отражалось у него на лице. А в третьей части они вместе с дирижером и оркестром не упустили случая вслед за композитором по полной высказаться относительно так называемой «антиформалистической» кампании, с утроенным сарказмом подавая банальный мотивчик популярной в то время песенки «И кто его знает» функционера СК В.Г. Захарова, внесшего большой личный вклад в травлю Прокофьева, Шостаковича и других.
Для оркестра, в отличие от солиста, это была премьера, но благодаря тщательной проработке материала с дирижером молодые музыканты чувствовали себя достаточно уверенно и играли качественно.
Кульминацией вечера стала Вторая симфония Скрябина. Написанная 30-летним композитором, она в чем-то близка музыкально к Брукнеру, Листу и обоим Рихардам, но вместе с тем уже явственно предвещает «Поэму экстаза», появившуюся пятью годами позднее. Я бы, пожалуй, отдал ей предпочтение перед гораздо чаще звучащей Третьей симфонией («Божественной поэмой»). Не помню уже, когда слышал ее живьем, но за последнее время прослушал много записей выдающихся маэстро и коллективов. Не буду называть имен, но то, как ее сыграл РНМСО под управлением Юровского, вряд ли уступило бы кому-либо из них. Один знаменитый пианист описывает в книге состояние во время самых удачных своих выступлений словами: «я буквально летал». Так вот в этот вечер «летали» буквально все музыканты, вместе с маэстро пережившие за 50 минут десятки экстазов, взмывая к заоблачным вершинам и затем плавно переходя к более спокойному созерцанию дивных красот. Дирижерская интерпретация была очень четко выстроена и детально проработана с коллективом. Пожалуй, именно с Юровским эти молодые музыканты достигают подобных высот чаще и больше, чем с кем-либо еще (достаточно вспомнить еще хотя бы их Третью Бетховена в прошлом сезоне).
***
Клавирабенды Юрия Фаворина, Петра Лаула и Евы Геворгян если и были как-то между собой связаны, то исключительно в смысле программы: в двух присутствовал Шопен, в двух – Шуман, причем, его «Карнавал» даже сразу в обеих. Но только в двух случаях речь шла о зрелых мастерах, музыкантах-художниках высочайшего уровня, а в третьем – о пианистке начинающей, хотя при этом уже весьма раскрученной.
Диалог с мирозданием
Фаворин свою программу в МЗК посвятил сочинениям Бетховена и Шопена. По части Бетховена у него вообще сегодня мало равных. Только за последнее время довелось слышать три фортепианных концерта и три последние сонаты, и всякий раз это было что-то экстраординарное. А вот Шопена прежде слышать у Фаворина не приходилось (да он его почти и не играл), и возникали даже некоторые сомнения относительно их совместимости, но с первых же звуков одной из двух посмертных мазурок все они рассеялись.
Понятно, что сам Шопен вряд ли предполагал, что эти мазурки будут обнародованы лишь после его смерти. Фаворин же играл их в том числе и с таким вот предощущением, окрашивая звучание в тона какой-то особенно щемящей грусти, но без всякого надрыва и сентиментальности. Играл истинно «шопеновским» и вместе с тем абсолютно фаворинским звуком, со своими фирменными обертонами, со своей личностной интонацией.
Буквально ошеломила последовавшая за мазурками Вторая соната си-бемоль минор. Первую часть пианист играл с таким романтическим неистовством, какое у него нечасто встретишь. При этом там, где у многих возникает невнятица, порой доходящая до хаоса, у Фаворина все было очень четко – несмотря на лихорадочно-стремительный темп. Можно было бы долго описывать, как звучала вторая часть, с какими островками пронзительной лирики и подспудным ощущением подкрадывающейся смерти. А знаменитый траурный марш? Никакого надрыва, никакого сантимента, все строго и мужественно, но внезапно – резкое замедление темпа в среднем разделе, словно бы последнее воспоминание о прекрасных страницах жизни, после чего возвращение марша воспринимается еще болезненнее…
Бетховенское отделение открылось одной из самых популярных сонат – 14-й, так называемой «Лунной». В интерпретации Фаворина ассоциации, связанные с этим неавторским названием, если и возникали, то вовсе не в импрессионистическом духе а-ля Дебюсси. Скорее на память приходили слова Мастера из булгаковского романа: «И ночью при луне мне нет покоя…» В первой части не было ни сентиментальной расслабленности, ни трагической безысходности. Подчас казалось, что звучит не Бетховен, а вовсе даже Бах, какая-нибудь прелюдия из ХТК, но тут вступал «одинокий голос человека», пытающегося вести диалог с мирозданием... Все же, при сильном общем впечатлении, каждая из частей сонаты воспринималась несколько обособленно от других.
31-ю сонату в исполнении Фаворина мне довелось слышать двумя с небольшим месяцами раньше в «ГЭС-2» (вместе с 30-й и 32-й). Не могу с определенностью сказать, в какой раз из двух она произвела более сильное впечатление. Пожалуй, оба в равной степени. Хотя звучала в чем-то по-разному.
А на бис Фаворин сыграл 12-й трансцендентный этюд («Метель») Листа, листовскую же транскрипцию польской песни Шопена «Мои радости», ну и, конечно, свой любимый бисовый вариант – одну из картин-настроений Рихарда Штрауса («У источника»). И все это было «попаданием в десятку», как и почти всегда у Фаворина.
Карнавал или ралли?
Ева Геворгян словно бы специально составила программу клавирабенда в БЗК так, чтобы напроситься на сравнения. Открыла она концерт шумановским «Карнавалом», который в последующие два вечера играл в КЗФ Петр Лаул, а второе отделение посвятила Шопену. И хотя прямых пересечений с исполненным накануне Юрием Фавориным не было, звуки его Шопена – пусть даже и раздавались они в соседнем помещении – словно бы еще висели в воздухе.
В «Карнавале» складывалось впечатление, что главная задача пианистки – сыграть все повиртуознее и побыстрее, и это, действительно, удалось. Вот только при столь бешенных темпах подчас пропадал характер музыки, и карнавал балансировал на грани превращения в ралли.
Еве Геворгян едва ли можно отказать в музыкальной одаренности, каковая давала себя знать то тут, то там. Пожалуй, более всего – в плетневской сюите из «Щелкунчика» Чайковского. Гораздо меньше – в шопеновских прелюдиях, где лишь пару раз возникало ощущение приближения к сути. Наверное, прелюдии эти вообще лучше играть уже в более зрелом возрасте. Вот шопеновские вальсы у нее определенно получились. И все же очень похоже, что техническая оснащенность у 20-летней пианистки превалирует над другими качествами, и ее игра зачастую тяготеет к откровенному спорту. Последнее было особенно явственно в сыгранной на бис «Кампанелле» Паганини – Листа: с ошеломляющей виртуозностью, но и только.
Кроме сказанного, в ее игре не хватает естественного дыхания, пластики музыкальной фразы, которая то и дело получается какой-то рваной, скомканной, а частые смены темпа происходят скачкообразно, побуждаемые сиюминутным импульсом, не поддающимся какому-либо логическому обоснованию. Есть, похоже, проблемы и с чувством ритма, который у нее часто даже не просто изломанный, но и какой-то слишком взбудораженный, захлебывающийся.
Этой совсем молодой и несомненно одаренной пианистке – еще, кстати, третьекурснице – не сольные бы концерты играть чуть ли не в еженедельном режиме, а учиться, учиться и учиться, посещать мастер-классы, концерты, слушать записи. Слишком рано начали ее раскручивать как звезду. Правда, подобной звездности, во многом базирующейся на умилении – смотрите, такая молодая, а как лихо шпарит, – по большому счету невелика цена. Вундеркиндские качества во взрослые годы легко оборачиваются инфантилизмом и начинают работать в минус, если только на них не нарастает что-то более значительное…
Танцующие картинки
Петр Лаул очередную программу своего абонемента в Камерном зале филармонии посвятил теме «Карнавала». Первое отделение составили два знаменитых шумановских опуса, а второе почему-то – «Картинки с выставки» Мусоргского, вроде бы никак с титульной темой не связанные. Впрочем, пианист более или менее убедительно мотивировал включение их в программу. Оба «Карнавала» – вторым был «Венский» – он сыграл великолепно и по блестящей технике, и по передаче характера как собственно музыки, так и ее программного содержания. Первый и наиболее знаменитый из «Карнавалов» проносился вихрем, но даже при самых предельных скоростях все звучало «с чувством, с толком, с расстановкой» и нигде не приводило к невнятной фразировке.
Про «Картинки» Лаул рассказывал долго и подробно, чувствовалось, что он знает о них все или почти все, собственными глазами видел те гартмановские прообразы, что сохранились, изучил и все описания несохранившихся. Чувствовалось не только в рассказе, но – главное – в интерпретации. Пожалуй, это были одни из самых интересных и выразительных «Картинок», какие доводилось слышать. У пианиста не пропадал ни один оттенок, проявлялись и такие, каких мы прежде вроде бы и не замечали. Он предельно обострял контрасты как между частями, так при необходимости и внутри оных. А еще он придавал звучанию во многом оркестральный характер.
На бис Лаул сыграл две прелюдии Дебюсси, что было вполне оправданно: Дебюсси, несомненно, многое почерпнул у Мусоргского, и некоторые его прелюдии и правда вызывают ассоциации с «Картинками». Последний из бисов также вполне вписывался в «карнавально-картиночную» тематику: это был Вальс-шутка Шостаковича из сюиты «Танцующие куклы».
Эту программу Лаул повторял два вечера подряд. Я был на втором, а по завершении подумал: очень жаль, что нельзя сравнить его исполнение в первый и второй вечер (филармония транслировала как раз второй). Крайне любопытно было бы разобраться, в какой мере его интерпретации подготовлены заранее, а в какой в них присутствует элемент спонтанности. А он, конечно, присутствует, хотя, похоже, не является определяющим. К тому же, когда перед тем как исполнить то или иное произведение, ты что-то о нем рассказываешь, сказанное прямо или косвенно отражается на характере исполнения. Мы не раз наблюдали этот эффект на концертах Владимира Юровского. И у Лаула он тоже дает себя знать.
Поделиться: