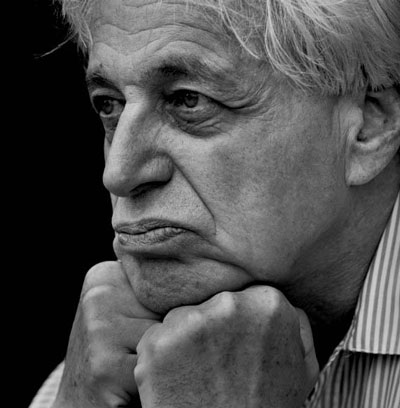Вобрав в себя все то космополитическое, универсальное, что существовало в мире современной композиции, и вместе с тем так до конца и не отказавшись от собственных национальных корней, творчество венгерского мастера все-таки не дало ясного и однозначного ответа на один из ключевых вопросов теперешней культуры: возобладают ли окончательно в нашем глобализированном и стандартизированном сообществе унифицированные музыкальные тенденции и традиции (а локально-национальные школы, течения и направления окажутся бесповоротно вытеснены из музыкально-исторического процесса) или же будет найдено некое равновесие между глобальным и региональным? Приведет ли тотальная универсализация композиторских традиций к сильнейшему противоборству и противостоянию отдельных не желающих подчиняться и включаться в общий поток национальных школ, что в итоге явится причиной их изоляции, а затем и возможного исчезновения?
БАГАЖ ЭМИГРАНТА
История уже проходила нечто подобное, когда приблизительно лет за 200 до н. э. почти одновременно образовалось три универсальных типа культуры: римская, китайская и индийская. И тогда воцарившиеся на больших пространствах эти «культурные типы» не способствовали развитию духовного роста, напротив, по мнению К. Ясперса, привели к «упадку в сфере сознания». Чем же обернется нынешнее сплавление разнообразных композиторских школ в единую наднациональную структуру, предсказать сложно. Хотя, кажется, дело неуклонно идет к тому, что время национальных школ все-таки постепенно завершается, потому что школы эти ныне слишком малы и незаметны для того, чтобы быть услышанными и уж тем более признанными.
Впрочем, самого Лигети вопросы эти вряд ли интересовали столь остро. Он никогда не ставил перед собой проблемы национального и универсального, хотя многое почерпнул у Б. Бартока и на разных этапах собственного творчества неоднократно обращался к национальным элементам, трактуя их широко и свободно. Более важным являлось для Лигети нахождение и обоснование в музыке иной звучности, иной композиционной формы и организации, иных творческих закономерностей и иного понимания художественного времени. И определяющим тут становилось не стремление к оригинальности и несхожести, не подчинение музыки своему чувству, воле и разуму, но желание исследовать ее изнутри, покоряясь ее звучанию, развитию, естественности структурных и семантических метаморфоз. И в отличие от многих своих коллег-авангардистов, Лигети всю жизнь внимательно прислушивался к мнениям и доводам оппонентов, суждениям тех, кто являл собой подлинную оппозицию его собственным взглядам и мыслям, понимая, что одни только единомышленники не могут дать верной картины, настоящего представления о том, во что веришь и за что борешься.
Но вот парадокс, вот зигзаг судьбы: не войди в 1956-м в Венгрию советские войска, возможно, говорили бы мы сейчас не о большом западном новаторе-авангардисте, а о замечательном венгерском мастере, талантливо продолжившем и синтезировавшем в своем искусстве традиции Бартока и З. Кодая. После победы над фашизмом молодой композитор искренне встретил и горячо приветствовал светлое социалистическое и коммунистическое будущее. Да и как ему, родившемуся в интеллектуальной еврейской семье (в ее генеалогическом древе по отцу числился знаменитый профессор Петербургской консерватории Л. Ауэр), потерявшему отца и брата в Освенциме, пережившему ужасы холокоста и волею случая избежавшему гибели, было не принять и не поверить в прогрессивные идеи освободителей человечества от «чумы ХХ века»?!. Даже 1949-й, принесший в страну тоталитаризм, повальные репрессии и доносительство, не до конца рассеял послевоенные иллюзии Лигети. Понадобилась улично-площадная мясорубка 56-го, результатом которой для композитора и стало бегство в начале декабря с женой в Австрию. Этот чисто внешний эпизод бытия оказался для него целительным, так как не эмигрируй он тогда, останься в изоляции от мировых композиционных процессов, мучай себя бесконечными сравнениями, тщетными поисками и попытками, размышляй о собственной оторванности от общего движения и развития… – словом, безумие здесь могло бы быть не худшим из возможных исходов.
Однако по-настоящему новая творческая жизнь Лигети ведет свой отсчет с 1957-го, когда в Кельне он сводит знакомство с К. Штокхаузеном и Г. Кенигом, работает вместе с ними в электронной лаборатории и когда первый из них предоставляет перебежчику свой кров. В этот год была перевернута страница венгерской биографии Лигети, которая началась то ли в географической Румынии – потому как городок (на румынский лад Тырнэвени), где он родился, формально принадлежал Румынии, – то ли в Венгрии, потому как язык в городе (на венгерский манер Дичесентмартон) был сплошь венгерским (а население в большинстве еврейским), конкретно же в Трансильвании – пожалуй, самом интернациональном местечке румыно-венгерской пригранчной полосы.
КАНОН КОСЯКОМ
Будущий изобретатель микрополифонии родился 28 мая 1923 года. И хотя родным языком композитора был венгерский, начальное, в том числе и музыкальное, образование он получил в румынской гимназии, в небольшом городке Клуж-Напоку (венгерский вариант Колошвар), куда в 1929-м переехала его семья. Первые музыкальные впечатления были весьма разнообразны: в смешанном городке звучал и венгерский, и румынский, и еврейский, и австрийский, и немецкий фольклор, городской и крестьянский.
Возможно, изобилие звуковых красок и ритмов нашло свое выражение в 80-е годы, когда прославленный уже мастер стремился к такому музыкальному синтезу, в котором бы отразились черты и специфики самых различных этнографических традиций. Так, характеризуя вторую часть Трио для скрипки, валторны и фортепиано (1982) – на мой вкус, лучшего камерного опуса Лигети, – композитор говорит о том, что хотел нафантазировать некую фольклорную ирреальность, которая была бы напоена «различными образцами народной музыки несуществующих народов, как если бы Венгрия, Румыния и все Балканы находились между Африкой и Карибским бассейном». В том же Трио (в финале) возникают интонации, близкие одновременно еврейским, болгарским и венгерским, а в третьей части Фортепианного концерта (1985–1988) автор оригинально вплетает в композиционную ткань полиритмическое и ладовое своеобразие азиатских и африканских культур. В эти же 80-е, которые иногда, не совсем, однако, верно, называют в творчестве Лигети неоромантическими и неофольклорными, создаются блистательные «Венгерские этюды» для смешанного хора (на слова Ш. Вереша), где наряду с потрясающими голосовыми звукоэффектами не менее изобретательно опосредуются в единое полиметрическое целое ритмические элементы венгерской, восточной и латиноамериканской музыки.
В какой-то мере «иррациональный», отстраненный от всего конкретного и ассоциативного неофольклоризм 80-х есть и свежее, еще более своеобычное прочтение бартоковских традиций, и одновременно концептуальное развитие собственных композиционных идей конца 40-х – начала 50-х, где связь с фольклором была выражена намного ярче и зримее. Как, например, в «Старинных венгерских бальных танцах ХVIII и ХIХ вв.» для флейты, кларнета и струнного оркестра (1949), «Балладе и танце» для камерного оркестра (1949 – 1950), Румынском концерте для оркестра (1951–1952) или даже в таком смелом, казалось, на тот момент фортепианном цикле, как Musica Ricercata (1951–1953). Необходимость равновесия. Все точно, как в жизни, когда после переворотов и катаклизмов требуются стабильность и спокойствие, а после «бури и натиска» – нечто узнаваемое и понятное. Так и у Лигети: вслед за радикально-новаторскими 60-70-ми – период обретения новой ясности и прозрачности, возвращения на новом для себя витке в чему-то прежнему и даже начальному.
Однако до всего этого пока далеко. Пока положение семьи Лигети в середине 30-х в антисемитской Румынии, а с 1940-го – в гитлеровской хортистской Венгрии как семьи еврейской и, значит, почти изгойской не просто ухудшается, но становится опасным для жизни. Приходится всячески приспосабливаться, приноравливаться и быть готовыми к любому компромиссу. Только и здесь судьба вмешалась в жизнь молодого человека самым неожиданным образом, придав вынужденному компромиссу вектор позитивный и стратегический, о чем в народе принято говорить: нет худа без добра. В университет Колошвара дорога для еврея Лигети была закрыта, и единственным выбором оставалось консерватория, куда людям его национальности поступать не запрещалось.
1941-й он встречает в Будапеште, где в течение двух лет изучает композицию в классе Ф. Фаркаша, а также активно занимается роялем и виолончелью. Ну а далее – арест, до конца жизни необъяснимое спасение от отправки на верную смерть (в концлагерь) и принудительные работы в венгерской армии. Осенью 44-го Лигети совершает отчаянный поступок: сбегает с принудительных работ и к концу 45-го возвращается в Будапешт. Не исключено, что именно эти чудовищные по своей напряженности и безысходности годы во многом определили основную идею творчества венгерского новатора – идею заторможенного времени, статичного времени, запечатлевшего некое единое состояние и атмосферу, идею фиксации во времени сиюминутного, данного, когда каждая минута жизни становится драгоценностью и обретает совершенно иное измерение, приобретая смысл мгновенного и бесконечного. Сопряжение минутного и бесконечного – что это, как не жизнь человеческая? В своих наиболее новаторских и известных сочинениях, открывших новые закономерности музыкальной процессуальности и звучности, Лигети и пытался композиционными средствами передать этот стык мига и бесконечности как заторможенное время, как застывшую атмосферу. Для этого ему и понадобилось изобретение микрополифонической техники письма и однородных сонорных массивов.
Суть микрополифонической техники заключается в столь стремительном и предельно минимализированном по длительностям включении имитационных, контрапунктических оркестровых партий, что никакой, даже самый искушенный и подготовленный слушатель не успевает
засечь и услышать многочисленность полифонических наслоений и разветвлений. То есть в этом полифонизированном звуковом потоке растворяется, исчезает основная полифоническая составляющая – ясное различение контрапунктических голосов и линий. Сам автор называл микрополифонию ««неслышимой» полифонией, отдельные моменты которой обособленно не воспринимаются, хотя каждый в отдельности согласуется с характером всей полифонической сети. Иными словами, индивидуальные голоса и конфигурации этих голосов остаются за порогом восприятия, однако каждый голос и каждая конфигурация отражаются на целостной структуре». А по образному выражению А. Шнитке, микрополифония Лигети – это когда «канон идет «косяком», а голоса включаются через тридцать вторую». И хотя первым полноценным опытом микрополифонической техники и сонористики можно считать симфонические «Видения» (Apparitions, 1958–1959), где все разное, но разное внутри одного и того же, где все контрастное, но контрастное внутри бесконтрастного, самым выдающимся его проявлением, безусловно, являются «Атмосферы» (Аtmоsрhеrеs, 1961) для симфонического оркестра. Неслучайно этот опус особо выделял и Штокхаузен – человек, для которого проблема переосмысления музыкальной звучности и времени была едва ли не наиважнейшей: «Аtmоsрhеrеs Лигети, – писал Штокхаузен, – это большой момент, некое «сейчас», которое бесконечно в своей временной конечности». К эталонному же воплощению подобного рода техники относится широко известный «тотальный» (от 48-ми до 56-ти голосов) канон из тех же «Атмосфер». Канон, который композитор называет «бумажным», так как многочисленные голоса здесь вступают не дифференцированно, а практически единовременно.
Благодаря микрополифонии в музыке Лигети возникали объемные, протяженные сонористические конструкции, по большей мере статичные и пространственные, замкнутые и глубоко внутренние (все музыкальные процессы осуществляются внутри одного сонорного блока и воспроизводится одно только состояние и ощущение), не предполагающие никакого внешнего движения формы, семантического или структурного развития. По сути эта сонорно-звуковая статика, это абстрагированное и обособленное в сонорно-звуковом пространстве от привычного хода музыкальное время становится у Лигети и новой формой композиционного мышления, и новой формой организации музыкального материала. Внутри такой объемной звуковой материи все настолько цельно, переплетено и спаяно – как огромная паутина, – что вычленить, отделить в ней какой-то ритмо-, метро- или звукоэлемент не представляется возможным.
Например, в еще одном симфоническом «культовом» опусе «Вдалеке» (Lontano, 1967) каждая из контрапунктических оркестровых линий насыщена и изощрена ритмически и интонационно, но все это «насыщение-изощрение» тонет и нивелируется в неуловимо переменчивом колыхании гомогенной оркестровой массы, структурные грани которой весьма зыбки и условны. Да и так ли нужна в отношении творчества Лигети подобного толка музыковедческая детализация и умозрительность?! Скорее нет, чем да, потому как, пожалуй, именно Лигети ближе всех подошел в музыке к воплощению наивно-идеалистической мечты Гете остановить мгновение (не всегда, правда, прекрасное).
Иной вариант понимания времени – идея неправильного, исковерканного, неуправляемого хода времени, идея, по Лигети, «сумасшедших, взбесившихся часов», то резко отстающих, то безудержно спешащих, то равнодушно равномерных, то синусоидно скачущих. В отличие от времени заторможенного, застывшего, в этом времени все меняется и деформируется, как в калейдоскопе, все в нем неожиданно, немотивированно и нелогично. Время, которым правит либо абсурд, либо маскарад. Она, эта идея абсурдно-маскарадного времени, и реализуется в сочинениях маскарадно-абсурдистских: в тех же театрализованных «Приключениях и новых приключениях» (Aventures & Nouvelles Aventures, 1966) для трех певцов и семи инструменталистов, очень близких по духу театру абсурду, или опере «Великий мертвец» (La Grand Macabre, 1974–1977), где жуткая мешанина музыкальных приемов и стилей соответствует и жуткой мешанине человеческих чувств и страстей и где абсурдными предстают и человеческие голоса, речи и поступки (чего, к примеру, стоит грозный образ шефа полиции по имени Гепопо, исполняемый, к тому же, колоратурным сопрано, или «кошмарная» сцена выпивания человеческой крови, обернувшаяся элементарным пьянством), и само человеческое существование.
В одном из интервью Лигети говорил, что идея «демонических часов» уходит своими корнями в далекое детство, когда он, пятилетний мальчик, обливаясь потом от страха и ужаса, читал рассказ о вдове, чей дом был переполнен неимоверным количеством страшно стучащих часов. И пусть с автором спорить не положено, все же предположу, что и такое неправильное, а по сути, трагическое ощущение времени больше все-таки обусловлено не «ужастиком» из детства, но абсурдом и бессмысленностью войны.
С одной стороны, жизнь, какой бы она ни была, как пойманное, застывшее и самоценное мгновение в бесконечности, с другой – абсурдное обесценивание людского бытия.
Обе эти противоположные идеи времени и мира нашли свое отражение, возможно, в наиболее пронзительном и искреннем сочинении Лигети – Реквиеме для сопрано, меццо-сопрано, двух смешанных хоров и оркестра. Распространенные на хоровые партии приемы микрополифонии и сонористики создают физиологическое ощущение запечатленных в реальном времени-пространстве скорби, боли, страдания, отчаяния, надежды и просветления. Вместе с тем в серединном эпизоде цикла Dies irae сознание словно раздирается на клочки. Ни одна экспрессия, ни одно настроение, ни одно движение или стремление не доводится до конца: постоянные срывы, сломы, взрывы, скачки и метания. Впечатление (весьма, однако, ложное), что авторская мысль просто не в состоянии что-либо контролировать и регулировать. Сплошной сюрреалистический ток. Свистопляска то ли ангелов, то ли демонов. В обе стороны нет предела. То ли обретение веры, то ли окончательная потеря иллюзии. Если только не исходить из того, что потеря последней – первый импульс, самое начало нового возрождения и нового обретения.
Выдающимся Реквиемом композитор как бы подытожил и закрыл в своем творчестве тему военной трагедии. Не будем возвращаться к ней и мы.
НЕ ПРИЧИСЛЯЙТЕ НИ К КАКОЙ КЛИКЕ
В 1949-м Лигети завершает учебу в Будапештской академии музыки – в числе его наставников по композиции (помимо Фаркаша) были два ученика Кодая: Ш. Вереш и П. Ярданьи – и до своей эмиграции еще успевает поработать в ней преподавателем гармонии, полифонии и анализа форм. Причем не только успевает, но и пишет два учебника по классической гармонии, по сей день пользующихся любовью венгерских профессоров. Искренне поверив в коммунистические идеалы, Лигети и в искусстве не менее искренне пытался воплотить в жизнь заветы партии и правительства. Позднее композитор скажет, что, «будучи левым», честно полагал, что и музыку должно писать такую, чтобы «каждый мог понять». Отсюда – сознательное упрощение письма, избегание хроматизмов и диссонансов, движение «в большей степени к типу венгерского народного стиля». И все же богатая творческая натура Лигети, стремление к новому и неизведанному, неустанная жажда поиска оказались сильнее идеологического доктринерства. Лигети ищет необычные ритмические и интонационные сочетания, своеобразие интервальных и гармонических соотношений, в его музыке сами собой возникают ассоциации с серийностью и пуантилизмом. Итогом исканий явилось создание в 1954-м Первого струнного квартета, сочинения не просто лучшего в доэмиграционный период, но где в зачаточном виде можно обнаружить некоторые черты будущего стиля автора: например, идею разорванного времени, «демонических часов» или некие «странности» полифонического письма.
Три года после эмиграции Лигети интенсивно и кропотливо изучает новейшие достижения западной традиции: более всего творчество А. Веберна, сериальные методы Штокхаузена и П. Булеза, оркестровые изобретения Я. Ксенакиса, структурные изыскания А. Пуссера и Д. Шнебеля. Многое дает работа с Кенигом и Штокхаузеном, и пусть дальнейшее творчество композитора никак не связывается с электроникой, приобретенный опыт позднее сказался в отдельных сочинениях: так сам Лигети отмечал влияние электронной музыки на характер звучания «Атмосфер».
Однако не все новшества западного авангарда были приняты на ура мигрантом. Даже открывшийся ранее невиданный (точнее, «неслышанный») спектр новых музыкальных звучаний и возможностей не заслонил отдельных недостатков, связанных с чрезмерной преднамеренностью, схематизацией или, напротив, излишней неуправляемостью композиционных процессов. В частности, Лигети так до конца и не признал сериальной техники (хотя временами и применял), считая ее сугубо умозрительной, исчисленной, однажды и вовсе назвав «синтетической конструкцией, не способной к органическим изменениям». Не близка ему оказалась и алеаторика (хотя и здесь он находил свои достоинства), так как в ней в значительной мере нивелировалась роль автора: «Я же хочу быть в состоянии самостоятельно и совершенно сознательно управлять течением каждой отдельной части», – говорил композитор. (С другой стороны, вся его микрополифония и сонористика воспринимается на слух исключительно как выписанная алеаторика!) В этом смысле, оставаясь приверженцем авангардного движения, ярым последователем его перманентного девиза «изобретать и поражать», Лигети, даже находясь внутри авангардной культуры, оставался все-таки немного от нее отстраненным – пребывая в ней, он будто бы наблюдал ее извне. Многие его критические замечания воспринимались болезненно и негативно, тем не менее и Булез, и Штокхаузен нашли в себе мужество признать, что Лигети позже всех пришел в авангард, пришел «со стороны» и потому «ему виднее большинства из нас как его недостатки, так и достоинства».
Вряд ли кто ответит, испытывал от этого внутренний дискомфорт сам Лигети, ощущал ли себя чужим среди своих (или своим среди чужих), так как, твердо настаивая на том, чтобы его «не причисляли ни к какой клике», он вместе с тем заявлял, что «был очень близок воззрениям Штокхаузена, Булеза, Гейвертса, Пуссера и Шнебеля» и чувствовал себя «в чем-то членом дармштадтско-кельнского круга».
Не принял Лигети (и тут он повел себя как истинный авангардист!) и всякого «нео» или «пост»: неоромантизма, неотонализма, неофольклоризма, постмодернизма… Даже используя в 80-е в своей музыке элементы яркой интонационности, четкой ритмопульсации, приемы коллажа и полистилистики, он, как и прежде, оставался самим собой – Дьёрдьем Лигети, композитором перепутья, композитором «западо-востока», композитором, одной ногой стоящим в будущем, а другой увязшим в прошлом. Возможно, поэтому и новаторство его не было ошеломляюще футуристическим, не опередило время на десяток лет вперед, а шло вровень со своей эпохой, намечая отдельные ее направления и движения. И возможно, по этой же причине, музыка Лигети, не в пример большинству его коллег-авангардистов, пользовалась успехом не только в узкой среде профессионалов, но и в далеких от элитарного круга специалистов аудиториях. Увы, но одним из результатов такой популярности стало беззастенчивое (без разрешения автора) использование С. Кубриком музыки Лигети в фильме «2001: Космическая одиссея». (Справедливости ради отметим, что скандал этот еще больше простимулировал интерес к творчеству Лигети, лишний раз способствовав его популяризации.)
Лигети умер 12 июня 2006 года в Вене, столице страны, подданным которой он официально являлся. Последние 15 лет творчества не внесли кардинальных перемен в его музыкальное мышление. Высшие достижения самого знаменитого венгерского автора второй половины ХХ века так и остались датированными 60-80-ми годами. Из наиболее позднего запомнилась его работа к фильму «Чарли и шоколадная фабрика (Т. Бёртона) и «Гамбургский концерт» для валторны соло, квартета натуральных валторн и камерного ансамбля, посвященный немецкой исполнительнице М.Л. Нойнекер.
Поделиться: