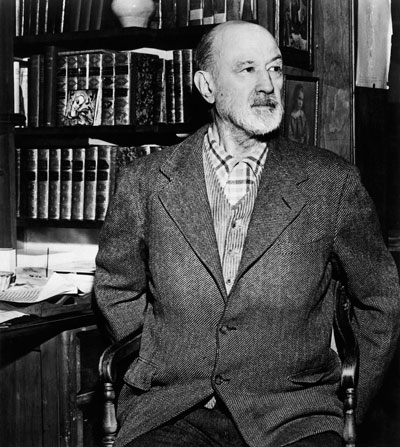Наверное, все авторы более или менее от чего-то зависели и были вынуждены хоть к каким-то компромиссам. Правда, для кого-то зависимость и компромисс – неизбежная капля яда, отравляющая жизнь, а для кого-то – бочка меда без всякой ложки дегтя. Встречаются, впрочем, и те, кто независимость и бескомпромиссность ставит единственной целью собственного бытия, превращая их в нечто внешнее, фанатичное и параноидальное, что лишает эти качества ценности и значимости. В конце концов, и суицид в некотором роде может быть и целью, и идеей, и смыслом.
Принципиальный, непоказной нонконформизм Айвза обусловлен не столько, не в пример большинству музыкальных собратьев, его абсолютной финансовой независимостью, сколько непоколебимой внутренней самодостаточностью и уверенностью во всем том, что он делал в искусстве. Трудно представить, но музыка Айвза при жизни исполнялась считаное количество раз, а большинство своих опусов он так вживую и не услышал. Это при его-то финансовых возможностях: Айвз мог позволить себе купить не только концертные залы, но и целые симфонические оркестры! Однако подобная популяризация творчества состоятельного автора совсем не привлекала. Он был так глубоко убежден: рано или поздно время его музыки настанет, – что ни разу на протяжении всей своей 79-летней жизни не впал в отчаяние или уныние из-за того, что, за малым исключением, ни один дирижер, пианист, скрипач, органист, квартет или иной ансамбль не сыграл его симфоний, сонат, камерных сочинений. Музыка Айвза была так неизвестна, что дело порой доходило до курьезов.
ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Когда в июне 1931-го в Париже на концерте новой американской музыки прозвучали айвзовские «Три селения в Новой Англии» для симфонического оркестра, то критики усмотрели здесь влияния Арнольда Шёнберга, Игоря Стравинского и Пауля Хиндемита. Это притом что автор никогда ранее первых двух композиторов не слышал, а заниматься композицией прекратил еще до того, как Хиндемит написал свое начальное произведение. Действительно, из-за болезни сердца Айвз с 1918 года практически отошел от сочинения (около пятнадцати ничего не значащих песенок явно не в счет), и все его творчество укладывается в два десятилетия рубежа веков. По мнению самого композитора, это промежуток с 1896 по 1916-й. И понятно, что все музыкальные открытия он совершил либо в одно время с Шёнбергом и Стравинским, либо чуть раньше их. А открытия Айвза как принадлежат его времени, определяя и реализуя идеи, поиски, эксперименты музыкальной эпохи, так и устремлены на много десятилетий вперед, даже в теперешнем ХХI веке не утеряв актуальности и перспективы.
Айвз, независимо ни от кого, активно применял политональные, полиритмические и полиметрические техники. Причем это были именно техники, а не отдельные выразительные приемы и эффекты, ибо композитор использовал их систематически и регулярно. Сейчас и вообразить невозможно, но в написанной почти одновременно с «Весной священной» Четвертой симфонии (Симфония для оркестра и двух фортепиано, 1910–1916) полиметрия и полиритмия более изобретательны и изощренны. К тому же во второй части (Скерцо) в партии альтов вообще нет ни выписанного ритма, ни тактовых черт, что по тем временам было немыслимым даже для Игоря Федоровича. В этом же опусе важное место отводится атональным и политональным принципам, а также темброво-звуковой колористике.
Атонализм, оригинальность метроритма с большим количеством страниц без тактовых указаний (вперед, к Уствольской?..), необычность звукоизвлечений – вплоть до игры ладонями и плечами, диссонансы и кластеры, введение в чисто фортепианный опус тембра флейты – таковы композиционные принципы знаменитой ныне айвзовской Второй фортепианной сонаты (1909–1915), которая имеет еще и программное название: «Конкорд, Массачусетс, 1840–1860». Конкорд – городок, неподалеку от которого в середине ХIХ века жили общей колонией философы-трансценденталисты, оказавшие значительное влияние на мировоззрение Айвза. Шестичастная соната, как пишет автор, – «попытка передать впечатления (одного человека) о духе трансцендентализма». Поэтому отдельные ее части – музыкальные впечатления и портретные зарисовки – носят программные названия: «Эмерсон», «Готорн», «Олкотты», «Торо».
Поражает разнообразие, и вовсе не эклектичное, технологий, применяемых в разных опусах. Так, крайне сложная Первая соната (1902–1909), представляющая что-то вроде цикла виртуозных концертных этюдов (каждый из них обладает индивидуальным программным содержанием), – концентрация тогдашних композиторских возможностей: от политональности, полиритмии и полиметрии до атонализма, кластеров и непрерывных агогических сдвигов. То же и во Втором струнном квартете (1907–1913), двух трио – для скрипки, виолончели, фортепиано (1904–1911) и скрипки, кларнета, фортепиано (1902–1913), – Третьей (1905–1914) и Четвертой (1914–1915) скрипичных сонатах, где в уже привычную комбинированную айвзовскую технологию периодически внедряются незнакомые прежде четвертитоновые структуры. Особый интерес в этом плане вызывает сюитная по складу симфония «Каникулы» (1904–1913), состоящая из четырех опять же привычно-программных для композитора частей. Все они приурочены к определенной календарной дате: «День рождения Вашингтона» (зимнее событие), «День памяти павших в Гражданской войне» (событие весеннее), «Четвертое июля» (летнее) и осеннее – «День благодарения».
Политонально-полиметрическо-полиритмическая перенасыщенность «Каникул» приводит к тому, что теряется реальное ощущение звуковысотности, в результате чего композиционная ткань наполняется большим количеством четвертитоновых призвуков и обертоновых расщеплений. Еще более удивительным является тот факт, что Айвз, понятия не имевший о поисках нововенцев, самостоятельно пришел к использованию в своей музыке двенадцатитоновости. В частности, основу фортепианного опуса «Дороги тонов» (1912) составляет двенадцатитоновый ряд, пронизывающий фактуру и вертикально, и горизонтально. Подобное можно наблюдать и в ряде эпизодов Второй (1903–1910) и Четвертой скрипичных сонат, и в отдельных песнях сборника «114 песен», изданного композитором в 1919-м.
Таким образом, не совсем, видимо, представляя общемузыкальную ситуацию первых десятилетий ХХ века, Айвз, не подозревая о европейских экспериментаторах, открывал, изобретал и применял новые музыкальные технологии и закономерности, порой соответствующие, а порой и опережавшие свое время!
И все-таки не только это, уникальное по сути, вписывание в новаторский дух эпохи впечатляет в американском мастере. Более поражают его невероятная творческая интуиция и смелость, с которой композитор осуществляет то, что никто и нигде в те времена не совершал, но что в итоге проявит себя с новой силой в творчестве мастеров послевоенного авангарда, а также совсем уж в отдаленную от Айвза постмодернистскую эру. Ведь Айвз в своих сочинениях, например в симфоническом опусе «Три селения в Новой Англии» (1903), помимо многообразных современных ему технологий применяет совершенно необычный для тех лет звуковой прием, когда возникает ощущение единовременной игры двух оркестров, однако ритмически, метрически и динамически различно структурированных. Тот самый стереоэффект, который через пятьдесят с лишним лет будет «заново открыт» Ксенакисом и Штокхаузеном. Подобная пространственная стереофония возникает и в Четвертой симфонии, и в Пятой («Каникулы»), и даже Втором квартете благодаря тому, что разные инструментальные группы существуют в разных темпах, метрах, ритмах и тональностях.
Еще одним, намного опередившим время айвзовским новшеством явилась коллажная техника, подразумевающая изобретательную игру стилей и цитат. Практически в каждом его сочинении используется самый разнообразный музыкальный материал: от уличных песенок и инструментальных наигрышей, импровизов, маршей, народных танцев, траурных шествий, церковных гимнов, цирковой эксцентрики, регтаймов, детских и патриотических мелодий до тем Бетховена, Брамса, Чайковского. И если вначале – Первом квартете (1896) или Второй симфонии (1896–1902) – цитатный элемент смотрелся чем-то инородным и неорганичным, то в «Конкорд-сонате», Четвертой симфонии, Четвертой скрипичной сонате и особенно в Пятой симфонии «Каникулы» и Втором квартете полицитатный, поликоллажный принцип становится составной частью композиционной драматургии. Вся интертекстуальная музыкальная масса настолько естественно вплавляется в развитие формы, что воспринимается как живая, изменчивая, постоянно обновляемая и дышащая звуковая материя.
При всей композиционной и технологической сложности идея айвзовской музыки чрезвычайно проста: жизнь во всех ее проявлениях и многообразии, жизнь как она есть и какой мы ее видим, слышим и понимаем. И в этом, учитывая, что композитор фактически предвосхитил постмодернистскую методу, Айвз разительно отличен от своих далеких последователей, для которых игра стилей и цитат зачастую становится игрой умозрительных конструкций и схем, не имеющих отношения к жизни подлинной. И в этом же американский новатор предвосхищает и одновременно сближается с творчеством своего младшего соотечественника, такого же, как и он, радикала и изобретателя Джона Кейджа. В своем желании омузыкалить, озвучить все окружающее Кейдж пошел много дальше предшественника: для него музыкой стала не только человеческая жизнь, но вообще весь мир и даже Вселенная.
АЙВЗ – КЕЙДЖ
Параллель Айвз – Кейдж требует разговора отдельного и обстоятельного, потому что в творчестве первого не только кейджевская всемузыкальная идея, но и зародыш его хэппеннигов, перформансов, принципа непреднамеренности и случайности, изолированности и несвязанности процессов, а также возможности организованного действа, состоящего из многого взаимоисключающего. Пока же обратим внимание на такой вот парадоксальный момент, характеризующий и Айвза, и Кейджа: оба они отрицали и опровергали традиции, которые, по большому счету, в американской академической музыке еще не были сформированы так, как, допустим, в Германии или Франции. Не будь обоих, американская музыка прошла бы тот же путь, который чуть ранее одолели восточноевропейские композиторские школы, пусть и за более короткий срок, но все же освоив все этапы становления многовековой западноевропейской традиции.
Айзв же практически начал с нуля, но сразу – с опровержения того, что по сути еще не устоялось и не отстоялось. Айвз начал, а Кейдж развил и продолжил, представ едва ли не главным авангардистом среди авангардистов. Возможно, в чем-то искусство Айвза и Кейджа – отражение самого склада американского общества и культуры, вынужденного, заимствуя, тотчас же отрицать, а учась и осваивая, сразу же опровергать и переделывать. И все для того, чтобы почти на голом месте, без какого-либо прочного культурно-исторического фундамента создавать свои собственные национальные принципы и устои. (Ведь приблизительно такая же картина наблюдалась и в американской поэзии, где, допустим, Эзра Паунд или Эдуард Каммингс совершали прорыв из традиции, которая еще только-только нарождалась.)
Или все дело именно в этом: когда нет вековых догм и ортодоксий, когда нет незыблемых правил и канонов, много проще созидать нечто новое, много легче нарушать не до конца сформированные и узаконенные пределы и нормы?
И все же, феномен Айзва представляется более загадочным, нежели феномен Кейджа. Хотя бы потому, что до Кейджа был Айвз, а во-вторых, Кейдж, не в пример предшественнику, был хорошо знаком со всеми современными европейскими тенденциями, и не только музыкальными. Его интерес к новой живописи, литературе, скульптуре, философии не требует комментариев.
СЫН СВОЕГО ОТЦА
Феномен Айвза стал бы и вовсе необъясним, если б в его жизни не существовала фигура отца. Здесь, пожалуй, тот редкий в истории музыки случай, когда о родителе великого композитора можно говорить не меньше, чем о нем самом.
Действительно, личность отца, Джорджа Айвза – городского человека-оркестра – не может не вызывать восхищения. Дав сыну в детстве добротное академическое воспитание – композитор вспоминает, что отец обучал его «гармонии, полифонии, истории музыки, знакомил с творениями Баха и других великих классиков», – он постоянно стимулировал и интерес в искусстве к чему-то неординарному, неожиданному, экспериментальному. Так, с поощрения отца юный автор сочинял пьесы и фуги, где каждый голос имел свою собственную тональность, а каждый такт – иной метр и ритм. Также благодаря наставнику с детских лет появился вкус к диссонансам, внетональным сдвигам, кластерным звучностям. Причем это не могло быть забавой или дурачеством, нет, каждую свою музыкальную «шалость» мальчику необходимо было доказывать и отстаивать, каждая «необычность» становилась поводом к серьезному профессиональному разговору и дискуссии.
Кроме того, отец приучал сына распознавать музыку везде и во всем. В паровозных гудках, возгласах извозчиков, уличных криках и сигналах, стуке колес. Думается, ключом к разгадке творческого парадоксализма Айвза-младшего может стать всего один отцовский совет по поводу безобразного фальшивого пения – мычания – некоего каменщика: «Вглядись в его лицо повнимательнее, и ты услышишь вечную музыку. Не придавай значения звукам: если станешь прислушиваться, то можешь не услышать самой музыки».
Видимо, впору говорить не о феномене Айвза-сына, но Айвза-отца – бывшего военного музыканта, капельмейстера Первого артиллерийского полка, испытавшего все тяготы Гражданской войны 1861–1865 годов; позднее – данбериевского органиста, тапера, дирижера местного духового оркестра и хора, а также учителя по фортепиано, скрипке, трубе, кларнету, тромбону, валторне, флейте, фаготу... Вот уж и вправду феноменальность!
Казалось бы, Дон Кихот от музыки, альтруист и романтик, но сыну дает донельзя прагматический наказ: сделать композиторское творчество своим хобби, а зарабатывать на жизнь и семью чем-то другим, в материальном плане более стабильным и устойчивым. Наказ, который Айвз выполнил на все сто, став в музыкальной истории, возможно, самым богатым человеком. Во всяком случае, до него таким многомиллионным состоянием вряд ли кто обладал. Вопрос в том, как «дошел» он до этой жизни?
«АЙВЗ И МАЙРИК»
Родившись в маленьком провинциальном Данбери (штат Коннектикут) 20 октября 1874 года и получив прекрасное семейно-музыкальное образование – к слову, мать композитора Мери Элизабет была хорошей вокалисткой, – Айвз в 1894-м поступает в престижный Йельский колледж, где занимается композицией в классе Горацио Паркера, обучавшегося в Германии и слывшего весьма эрудированным и грамотным музыкантом. И хотя основные свои университеты молодой Чарлз прошел у отца, он всегда с неизменным теплом вспоминал педагога, считая, что тот за четыре года занятий научил его четкому пониманию композиционных процессов и закономерностей. Тогда же, в 1894-м, Айвз потерял отца и впервые всерьез задумался о своей дальнейшей судьбе. А как задумался, так вспомнил мудрый наказ родителя. А как вспомнил, так в 1907-м вместе с другом и деловым партнером Джулианом Майриком основал страховую компанию, назвав ее скромно, но со вкусом: «Айвз и Майрик». А как основал, так спустя несколько лет сделал ее одним их ведущих американских страховых агентств; а спустя еще пару десятилетий оборот основанной им фирмы достиг почти пятидесяти миллионов долларов, что стало по тем временам абсолютным для США рекордом. Поэтому когда в 1929-м Айвз из-за усугубившейся болезни сердца отошел от дел и передал бразды правления своему компаньону, то тому оставалось, ничего не меняя, лишь продолжать и крепить финансовый успех предприятия.
Понятно, что финансово благополучная жизнь Айзва имела мало общего с материально трудной жизнью большинства коллег-музыкантов. Вместе с тем его творческая участь оказалась много трагичнее участи «бедствующих» авторов. Судьба, одарив богатым денежным достатком, отняла здоровье. И в итоге, как сообщалось выше, весь композиторский путь Айвза уместился в двадцатилетний промежуток. Большую часть творческого бытия – около сорока лет – он фактически бездействовал, уделяя львиную долю времени лечению и врачам. Его состояние было настолько слабым, что Айвз не мог себе позволить присутствовать даже на единичных премьерах своей музыки, довольствуясь в лучшем случае радиотрансляцией, но чаще – критическими отзывами и пересказами друзей. Возможно, в том, что композитор стоически переносил сыпавшиеся на него удары, без отчаяния принимал отторжение и «повсеместную неизвестность» его произведений, почти не реагировал на едкую и уничижительную в свой адрес прессу, сыграло роль увлечение философией трансцендентализма – в первую очередь, учением Ральфа Уолдо Эмерсона и Генри Дэвида Торо.
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ, ГОСПОЖА АЙВЗ И КОКТЕЙЛЬ ДЖОЙСА
Идея близости человека к природе и слияния с ней; идея постижения мира посредством интуиции, а не рациональной логики; путь нравственного очищения благодаря погружению и проникновению в суть простых вещей и предметов; ценность одиночества и тишины; возможность приближения к некоей человеческой «сверхдуше» с помощью глубочайшего внутреннего сосредоточения и самосозерцания; умение везде находить красоту и гармонию – все это, безусловно, укрепляло моральный дух и вселяло веру в светлое и одухотворенное. Однако, как знать, вынес бы Айвз до конца все испытания и зигзаги судьбы, обрушившиеся на него, даже будучи убежденным стоиком и созерцателем, не будь поддержки пусть и крайне малого, но зато бесконечно преданного числа друзей-музыкантов. Это и бывший наш соотечественник дирижер Николай Слонимский, несмотря ни на что – даже полные провалы – мужественно включавший в свои концерты сочинения Айзва; и выдающийся мадьярский скрипач Йожеф Сигети, бесстрашно исполнявший труднейшую Четвертую сонату; и постоянно поддерживающие и глубоко ценящие айвзовское искусство композиторы Карл Рэглз, Генри Коуэлл, Лу Гаррисон, Джон Беккер, Владимир Усачевский; но прежде всего пианист Джон Киркпатрик. Именно Киркпатрик явился единственным при жизни автора исполнителем, который не только всюду играл его музыку и устраивал в его честь вечера, но и записал на диск целый ряд фортепианных опусов. Наверное, стараниям, заботам и пропаганде своего творчества друзьями-соратниками Айвз обязан своим избранием в 1946-м в члены Национальной академии, присуждением в 1947-м Пулицеровской премии и хоть какой-то творческой удачей при жизни.
Трансцендентализм Эмерсона и Торо, стоический характер, помощь и поддержка соратников, неистощимый энтузиазм Киркпатрика… И все же, видимо, главным и самым надежным источником айвзовской веры в себя, свое искусство и великое будущее своих произведений, была госпожа Айвз, супруга непризнанного мастера. Она не просто разделяла музыкальные убеждения мужа, не просто горячо принимала все его творческие начинания и изыски, не просто отстаивала и защищала перед другими эстетические принципы супруга, но еще и бесконечно поддерживала в нем его композиторскую честность и бескомпромиссность. За всю жизнь она ни разу не посоветовала Айзву написать что-нибудь близкое вкусам публики и критиков – напротив, проявляла излишнюю строгость там, где ей казалось, что «любимый Чарли» в чем-то отходит от своих художественных позиций. Являясь надежной опорой мужа в поисках и экспериментах, госпожа Айвз одновременно трепетно следила за состоянием его здоровья, и за то, что композитор прожил почти 80 лет, мы более всего должны быть благодарны ей. Поэтому признательные слова музыканта в адрес жены воспринимаются, скорее, как констатация факта, нежели комплимент: «Большинства моих творческих достижений никогда бы не произошло, будь я женат на какой-то другой женщине». (Правда, злые языки говорят: неизвестно, как повела бы себя госпожа Айвз, не имей супруг такого прочного и значительного финансового положения. Ладно, на то они и злые языки, чтобы о них лишь в скобках и упоминать.)
Если сравнивать с кем-то Айвза в истории культуры прошлого века, то, пожалуй, только с Джеймсом Джойсом. У обоих коктейль стилей, диалектов, цитат, смыслов и содержаний. Для обоих одинаково привлекательны как языковые упражнения, придумывания, сочинения и изобретения, так и языковые наблюдения, подсматривания, подслушивания, обнаружения и смешивания. Однако если имя ирландского писателя почти сразу же стало синонимом величайшего в литературе новаторства, то имя Айвза даже теперь, когда, кажется, нет в том ни малейших сомнений, так и осталось в тени имен Шёнберга, Веберна, Берга, Стравинского, Бартока, Сати… И отчего-то думается, что так оно пока и будет, и отчего-то представляется, что время подлинного открытия музыки американского автора еще далеко впереди.
Чарлз Эдуард Айвз: он умер 19 мая 1854-го, оставив после себя, возможно, свое лучшее, но, возможно, и свое самое загадочное сочинение: «Вопрос, оставшийся без ответа» для трубы соло, деревянных духовых и струнного оркестра (1908). Не знаю, если ли смысл что-то добавлять к этому названию. Разве что такое: человек, твердо стоящий на земле и вполне довольный реальной жизнью, вряд ли будет пытаться понять нечто о бытии истинном, о бытии, открывающемся лишь тогда, когда появляется неодолимое стремление превозмочь и возможность себя самого, и пределы собственной жизни. И все ради того, чтобы прорваться к чему-то трансцендентному. То есть все время помнить о некоем высшем смысле, о некоей вечно открытой истине бытия. Вряд ли. Если только человек этот не Чарлз Айвз.
На снимке: Ч. Айвз
Поделиться: