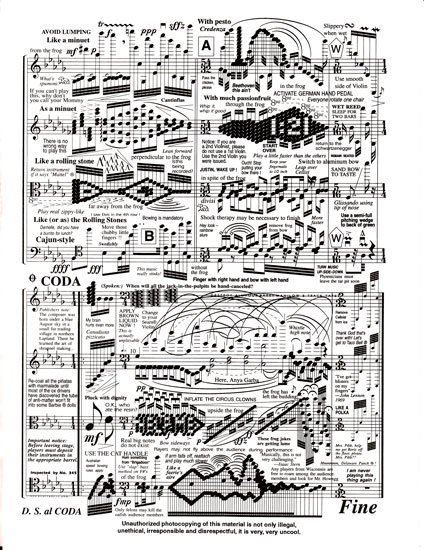…Некогда один молодой талантливый композитор показывал свое сочинение, в котором смычками пилили три куска пенопласта и решающей становилась степень давления смычков на поверхность объекта. Давление могло быть сильным, средним или слабым. Смычок можно было вести по типу «длинно» или по типу отрывистого стаккато. Так возникал качественно иной звуковой ряд, а вместе с ним программировалось нарушение слушательского стереотипа, провоцировалось резкое слуховое отторжение у аудитории, чтобы она сама себя преодолела и начала слушать пиление «пенопласт-звуков» неким «новоухом». Декларировалась здесь и возможность иной красоты благодаря специфике и неопределенным звуковым параметрам «пенопласт-объекта», звучащего все время по-новому, не так, как прежде (а раз даже вышло, что на пенопластах внезапно сложилось мажорное трезвучие). Пенопласты, однако, скорее, понравились, чем нет.
Другой молодой композитор на показе своего сочинения в известном консерваторском зале полностью выключил свет, открыл настежь окна, убрал музыкантов со сцены и рассадил по разным местам (в том числе на балконе и за окнами). Вскоре зал наполнился уличными звуками, стуками со стройки, гулом машин, какими-то фортепианными темами, доносящимися из других консерваторских аудиторий, природными шумами, сливавшимися со звуками музыкальными, апофеозом же этого перформанса стали сигналы припаркованных к залу автомобилей. И что самое поразительное, сигналы эти были заранее запланированы автором, вписаны в композиционную структуру, да и вообще все, доносящееся с улицы, строек, из консерваторских классов и соседних домов, компоновалось и в итоге синхронизировалось с тем, что происходило в зале. Так, видимо, стиралось расстояние между концертной (искусственной) и не концертной (реальной) жизнью и возникало некое единое звуковое пространство, в котором, почти по Кейджу, все становилось музыкой (или не-музыкой). И вновь: в этой композиции, скорее, больше было за, чем против.
Третий композитор, представитель уже среднего поколения, показывал на заседании одного уважаемого собрания свою оперу. Оперу, которая начинается с тишины, а звук рождается из дыхания; где голосовым материалом, рожденным из колебания дыхания, являются хрипы, сипы, присвисты, «глотательные и прочие шумы органического происхождения»; где партитура целиком зафиксирована и формализована, но где ни один из инструментов не играет естественным звуком, а производит некие шумы и скрежеты; где совершается попытка превратить все звуковое пространство в нечто неделимое на звук внешний и внутренний, на звук, идущий со сцены, и звук, существующий внутри каждого зрителя. Оперу, в которой есть стремление стереть грань между искусственностью оперной ситуации и реальностью, но оперу, в которой не поют. И, может быть, поэтому или оттого, что заявлено и рассказано о чрезвычайной оперной концепции автором было немало, в итоге ошеломляющий эффект не совсем получился, – вышло нечто сипучее, свистучее и хрипучее. Правда, композиторская работа была исполнена на достойном уровне. И получилось, значит, что понравилось.
Еще один автор, из поколения старших и умудренных (друг мой, к слову, большущий), на крупном фестивале демонстрировал свежий опус, в котором задействовал два рояля и орган. Назвал опус «структурированной импровизацией», показать же хотел девять звуковых волн-валов, с каждым разом все усиливающихся, укрупняющихся и достигающих апогея, для чего выписал пианистам и органисту определенные звуковые структуры, на которых они и строили свои импровизационные валы. Пианисты и органист старались вовсю, сил физических и эмоциональных вложили немерено, валы поднимались все выше, сильнее и страшнее, – в результате вышло нечто броское и эффектное. Я вот только после своему другу композитору сказал, что на выписывание фиксированных звуковых структур можно было бы вообще не тратить профессионального усердия – достаточно было пригласить трех хороших импровизаторов, объяснить им на словах, что требуется, и вышло бы совсем не хуже, а то и лучше. Ну а если бы одним из пианистов был сам Сесиль Тейлор!.. Однако валы, даже в предписанных структурах, все равно порадовали и даже затронули.
Оценим ситуацию, к которой мы пришли. Хотя нет, еще несколько слов – теперь об одном достижении послевоенного авангарда, сыгравшем впоследствии двоякую роль.
Послевоенный авангард, поставив среди целей совершенствование композиционной технологии, реализовал эту идею сполна. Уровень композиционного мастерства в музыкальном мире возрос в разы, как в разы возрос и уровень технологической композиторской оснащенности, особенно среди тех, кто ориентирован в своем искусстве на всякие «измы» и «пост», – он наивысочайший. Ныне, если вы встречаетесь с опусом, созданным автором прогрессивного «измовского», «постовского», «истовского» (есть «деконструктивисты», к примеру) толка, будьте уверены: продукт вас ждет приличный. Это, конечно, безусловный плюс сегодняшнего музыкального времени. Вместе с тем случился некий перекос критериев художественных достоинств мастерски выполненных сочинений. На первый план вышел момент сугубо технологический – как сделано произведение, сколько композиторского труда и работы в него вложено, какие выразительные средства в нем задействованы, какие приемы звукоизвлечения использованы, как препарируются тембры и голоса. Вот и сидит сегодняшний профессионал (музыкальный критик или композитор), тонким ухом вылавливая и отмечая все эти замечательные технологические сложности и ухищрения, и удовлетворенный достигнутым результатом констатирует отменное композиторское владение, применение и структурирование новейших технологий, приемов, тембровых возможностей и ресурсов. Ну а так как изобретательно-технологичную, темброво-разнообразную и продуманно-структурированную музыку научились писать почти все, то стало много труднее отличать и разбираться, что есть хорошо, а что плохо, что талантливо, а что не очень. Слушаешь, например, профессиональным ухом иное сочинение – поражаешься титанической композиторской работе, впечатляешься навыком и умением, но далее то же самое происходит и при прослушивании другого опуса, и третьего, еще одного… То есть едва ли не единственным критерием, по которому определяется «величие» произведения, является технологическая находчивость. Ну а если она у всех приблизительно равная и стандартизированная? После послевоенного-то авангарда? Помнится, Ксенакис, когда еще послевоенный был в фаворе и в наипередовых, потешаясь, подметил меж тем верно и мудро, что «внутренняя логика сериальной музыки cкрыта от слушателя, который слышит никак не связанные друг с другом отдельные звуки, висящие в пустоте. Все вместе производит впечатление бессистемного, визгливого и разреженного акустического пара. Того же самого эффекта можно добиться значительно проще и безо всякого сериализма». За что был проклят и Булезом, и Штокхаузеном. Но ведь как точно!..
Мы принимаем за очень хорошее и талантливое лишь то сочинение, где композитором произведена адова работа с технологиями, тембрами, звуками и т.п., не учитывая, однако, самого простого и для слушателя главного. Каково эмоциональное воздействие от всей этой адовой работы, насколько она захватила, заинтересовала, заинтриговала? Или все для слушателя прошло мимо и вызвало одну только скуку и уныние?
Правда, сегодняшний композитор, понимая опасность технологического графоманства, придумал вещь, способную «прикрыть все» и при этом отвечать новейшим веяниям и чаяниям в искусстве. Имя ей «концепт». Концепт, который один лишь и мог хоть что-то там в технографоманстве освежить. Но это привело к перекосу иному. Теперь стало отходить на задворки не только технологическое, но и композиционное, архитектоническое, процессуальное. Главное – придумать этот самый концепт, а уж как его реализовать, какими средствами, технологиями, приемами, в какую форму облечь и как драматургически эту форму выстроить, не суть важно! Прикрываясь концептом, можно хоронить все ранее в композиции непреложное и незыблемое, без страха и упрека (или без стыда и без совести?) избавляться от многовековой композиционной истории и традиции, что – хочешь не хочешь – открыло двери, окна, щели и лазейки для массового проникновения в музыку дилетантов и профанаторов. Не надо ничего изучать и ничему учиться: есть свежий, оригинальный концепт, а воплощение его – вопрос несущественный. Кто не согласен с этим, тот ретроград и «сам дурак». Однако от концепта всего один шаг до превращения произведения как воплощенного композиционного замысла в акцию (желательно громкую и даже скандальную), разовый «проект».
Есть среди современных композиторов и те, кто пытается переосмыслить самое понятие музыкального, оперируя скрежещущим, шумовым, шипящим или же предметно-объектным, видя первоочередной задачей переиначивание прежней лексики и создание нового композиторского «букваря». И неважно, на каком поле «букварь» этот возникает, – посредством ли изобретения экстраординарных приемов и технологий, благодаря ли тотальному отказу от всего нотного, способами ли аномального звукоизвлечения, тембрового ли экстремализма или просто в силу сознательной установки на нечто внеэстетическое и внехудожественное. Отмечу, что композиторы, позиционирующие себя как «шумовики», чаще всего люди высокообразованные и эрудированные.
Теперь о том, к чему все это привело в профессиональной среде. В случаях «технографоманства» и «шумовиков» остался единственный критерий: количество проделанной композиторской работы вкупе с разнообразием технологий и экстраординарностей. В варианте концепта: степень эпатажности, изобретательности, оригинальности и концептуальной изощренности, но никак не качества музыки или вложенного композиторского труда. Концептуальность эта может порой доходить до того, что вместо музыки просто зачитывается некий «концептуальный текст». Как, к примеру, один композитор (поверьте, композитор блестящий) минут сорок читал перед публикой собственноручный текст и, не издав ни одного музыкального звука (тогда как на сцену был выведен зачем-то струнный квартет), благополучно свалил за кулисы. Мало того, композитор этот внес данный литературный текст в список своих музыкальных (!) композиций.
Чем дальше, тем запутаннее и одновременно смешнее выходит: что такое в музыке хорошо, а что такое плохо? Либо предельный технологизм, который ничего иного, кроме предельного технологизма, видеть и слышать не желает, либо откровенное наплевательство на технологизм (а заодно и на профессионализм) и концептуализация всего и вся (и тогда нет надобности не только в профессиональном композиторе, но зачастую и в музыке самой).
Зачем, спрашивается, я вначале описал четыре композиционных опыта: от пенопластов до валов? Да все потому же: профессионально удивили и концептуально впечатлили. Хотя ведь и чувствовал, и понимал: ко всей этой музыке подойдет шекспировское: «Такова безумных речь: в ней звуки есть, а смысла нет».
Поделиться: